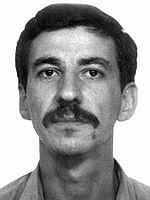| |
«И ПЛАЧЕТ АНГЕЛ ТАМ, ГДЕ САТАНА СМЕЁТСЯ»: ИЗ ИСТОРИИ ДЕМОНОЛОГИИ СМЕХА
(отрывок)
Восприятие смеха в различных культурах и религиях неодинаково. Любая религия рассматривает радость, смех с точки зрения эмоционального наполнения, внутреннего содержания, смысла и направленности этого чувства. Смех — это всегда особое состояние, хоть на миг, но погружение в некую иную реальность, выход из повседневности. Но смех может быть сопряжён с карнавальной стихией, с игрой, с шутовством, а может быть знаком особого интуитивного прозрения сути вещей, через которое человек ощущает свою внутреннюю свободу и ясность видения, приближающие его к состоянию абсолютной духовной и эмоциональной гармонии, спокойствия и тишины.
В смехе кастанедовского дона Хуана, в юморе дзэн за парадоксальностью суждений скрывается мудрость, обретённое знание, доступные избранным, способным пройти путь ученичества и постепенного постижения истины. Для того чтобы смеяться, надо видеть глазами, слепые не смеются, говорит дон Хуан. «Они могут производить звуки, похожие на смех» [14, 263]. Такой мистически окрашенный смех предполагает некую недосказанность, незавершённость, загадку, определённую дистанцию между учителем и учеником, которую смех не преодолевает, а скорее объясняет и оправдывает. Карнавальный же смех тотален, всеохватен, уничтожает всякую дистанцию, участники
карнавала отказываются не только от своих социальных ролей, но и вообще от каких-либо условностей, считая тот, оставленный ими мир житейской суеты и повседневности, неистинным, фальшивым и отражая его словно в кривом зеркале пародии и гротеска.
Восточной культуре присуща такая важная черта карнавальности как направленность смеха на самого смеющегося, но всеохватности, всеобщности радости, веселья здесь нет. Источник радости не в карнавальной стихии, а во внутренней гармонии, и если она достигнута, то радость обязательно выйдет за пределы одной личности, делая иллюзорными всякие границы и пределы, не создавая при этом «мира наизнанку», а обнажая суть бытия, снимая покровы майи с повседневной реальности. Героине романа на мифологический сюжет классика маратхской литературы XX в. В.-С. Кхандекара «Король Яяти» царевне Шармиште горы открыли «тайну счастья — чтобы жить
счастливо, нужно с благодарной весёлостью принимать дары бытия, учиться наслаждаться красотой мира и делить свою радость с другими» [5, 463—464]. Восточные религиозно-философские учения, прежде всего основанные на ведической традиции и авторитете великого индийского эпоса, говорят об обретении радости как о некоем высшем состоянии души, сознания, как о счастье избавления от гнева, вожделения, похоти, как о саттвичном чувстве (саттва в индуизме — высшее из состояний природы, уравновешенность, спокойствие), лишённом непосредственной эмоциональности. В принципе же человек должен быть равнодушен и невосприимчив к подобного рода
переживаниям. «...Кто свободен от радости, нетерпения, страха, волненья — тот Мне дорог... кто не радуется, не ненавидит, не тоскует... тот Мне дорог», — обращается к Арджуне Шри-Бхагаван (Кришна-Вишну) [7, 138]. Постигший Брахмо «пусть не ликует от радости, не колеблется скорбью» [7, 109]. По толкованию «Бхагавадгиты» «подверженный радости, горю, такой деятель называется страстным» [7, 158]. В то же время «радующиеся благу всех существ» также достигают Бога [7,137]; «радуются и ублажаются всегда», ведя о нём беседу [7,126].
Это та радость, о которой в «Бхагавадгите» говорится так:
«Та, что радует после усилий, наступает с концом страданий. Та радость, что сначала подобна яду, впоследствии — амрите, рождённая от ясности познания атмана, называется саттвичной, в отличие от той радости, которая от сочетания чувств и предметов сначала подобна амрите, затем — отраве; эта радость считается страстной.
Вначале и впоследствии слепящая самосознание радость,
Порождённая тупостью, сном и беспечностью, считается тёмной...» [7, 159]
Радость — одна из множества человеческих эмоций, но она интересна тем, что может оцениваться с религиозно-философской точки зрения двояко — как расшатывающей внутреннее естество и гармонию человеческой души, так и имеющей характер почти сакральный, священный, очищающий: «кто счастлив в себе, кто изнутри озарён, в себе обрёл радость» [7, 110]. В буддизме именно это понимание радости получило своё наиболее полное воплощение. В целом буддийская этика призывает человека к бесстрастному воззрению на мир, это радость отшельника, отстранённого от эгоцентрических привязанностей и мирских страстей.
Подобную функциональную нагрузку несёт радость, смех и в философии дзэн-буддизма. Так, известный японский философ С. Кацуки в своей работе «Практика дзэн» говорит о большой роли смеха в снятии внутреннего напряжения: «Смех — это предохранительный клапан всего мира, средство избавления от своего “я” и устранения мира противоречий. Смех спасает ум» [25, 592]. Концентрация на своём «я» препятствует свободному и естественному смеху. Радость, смех понимаются здесь как осознание своего слияния, единения с космосом, миром, природой, растворение в универсуме своей самости и обретение нового качества личности.
О достижении высшей радости как о задаче, стоящей перед учеником, встречается в одном из даосских источников — «Главах о прозрении истины» Чжана Бо-дуаня, утверждающего единство буддизма и даосизма. Гнев и радость не затрагивают сущности человека и являются неизбежными спутниками человеческой души и её важными эмоциональными проявлениями. Главное — уметь достигнуть безмятежности и безразличия, соединения с природными свойствами, а «печаль и веселье причиняют зло свойствам, радость и гнев ведут к ошибкам в пути, любовь и ненависть приносят ущерб свойствам. Поэтому иметь сердце, свободное и от печали, и от веселия — это высшее
в свойствах» [11, 248], — говорится в даосском философском трактате «Чжуанцзы». Настоящего мудреца «не поколебать ни печалью, ни радостью» [11, 82], ведь «радость и гнев, печаль и наслаждение... обременяют свойства» [11, 308]. Радость «лишь в отсутствии печали» [11, 251]. Лао-Цзы призывает: «не допускай в свою грудь ни радости, ни гнева, ни печали, ни веселья» [11, 286]. «Если довольствоваться своим временем и во всём за процессом следовать, к тебе не будут иметь доступа ни горе, ни радость. Древние и называли это освобождением от уз» [11,189]. Радость, улыбка как знак некой отстранённости от мира, ироничного к нему отношения
— это лишь промежуточный этап к гармонии с космосом. Радость, смех, юмор не есть нечто совершенно недопустимое, но скорее они овладевают человеком, а не исходят от него, они частичка реки жизни, которая несёт человека безвольного, слабого и развращённого, но которая превращается в путь Дао для постигших истину. И комизм жизненных коллизий и ситуаций становится важным способом понимания и объяснения этого движения. Жизнь человеческая быстротечна, и большая её часть наполнена страданиями и болезнями, «всего лишь четыре-пять дней за одну луну человек смеётся, широко открыв рот... Вcе те, кто не способен наслаждаться своими мыслями
и желаниями, поддерживать жизнь многие годы, не понимают пути» [11, 355—356]. Тем более, говорит «Чжуанцзы», недостойно человеческой природы «осуждать пение, когда поют, осуждать плач, когда плачут; осуждать радость, когда радуются» [11, 379]. Не случайно в одной из даосских утопий «радуются и веселятся, нет ни печали, ни горя. Любимый обычай — петь песни» [11, 94]. Те, «кто в древности обрёл учение, радовались и в беде, радовались и при удаче. Их радость не зависела ни от беды, ни от удачи» [11, 347]. Радость — это то, без чего нет человеческой жизни, но чему не следует предаваться слепо и бездумно, и что в конечном счёте следует
преодолеть, чтобы достигнуть Единого.
В религиозных построениях восточной мысли зло, как и добро, деперсонифицировано, это скорее некая идея, а не образ. И хотя, например, в культовой практике индуизма важное место занимает религиозное личностное переживание, любовь к личному богу, тем не менее в литературно-философских текстах этой религии божество описывается скорее через апофатическую характеристику, через качества, которыми не обладает.
Религии, которые носят преимущественно не умозрительно-философский характер, а непосредственно-эмоциональный и чувственный, исполненные жизнелюбия, радости, оптимизма, чаще склонны персонифицировать как добрые, так и злые силы, управляющие миром. А там, где боги понятны и близки, к ним скорее возможно ироничное, насмешливое, критическое отношение. Ритор VI в. Хлорициус, рассматривая утверждение о том, что смех — от дьявола, заявляет, что «человек отличается от животного благодаря присущей ему способности говорить и смеяться» [4, 79], и говорит о том, что античные боги смеялись, «смех — подарок богов». А. В. Дружинин в статье
1850 г., посвящённой одному из готических романов Анны Радклиф, отмечал, что у греков «мрачные существа, выводимые на сцену, имели в себе много комического...» [12, 124]. Смех над ними — это своеобразное «лекарство» от страха, его предупреждение, опережение.
В мифологии различных народов именно божества с отчётливой нравственно-отрицательной оценкой нередко связаны со стихией игры, превращений, карнавала, танца (танцующий Шива, бог смерти майя Чаб-ла-ла [6, 205]), озорства. Ритуальное осмеяние, подшучивание, а также гротескные маски, которые могут при этом использоваться, нередко являются важным элементом культа. Смеховую стихию в чистом виде мы здесь не ощущаем, скорее это синтез страха и мольбы, игры и оргиастического исступления, боязливого поклонения и сакрального ликования. Но в более сложных религиозных системах отношение к смеху и к смеющемуся актуализируется. В христианстве,
и особенно в русском православии, восприятие смеха, радости достаточно сложно и неоднозначно, поскольку предполагает различные степени и смыслы, но здесь, пожалуй, наиболее последовательно проведена линия на неприятие смеха как хохота, насмешки, как той стихии, которая проявляет себя в игрищах, забавах, разгуле. Это откровенно негативное отношение к подобным проявлениям смеха достаточно чётко просматривается на всём протяжении истории христианства, особенно после появления первых богословских трудов, толкующих и комментирующих библейские первоисточники. Причём такое восприятие смеха отвечало и глубинным настроениям народа1. Так, в «духовных стихах» русского2 фольклора «Калики перехожие» говорится о том, что наряду с другими грешниками в аду осуждены пребывать «смехотворцы и глумословцы» [8,197].
Известный писатель и этнограф XIX в. С. В. Максимов так передаёт разницу между оттенками смеха в восприятии христианства: «...радуется, умиляясь, ангел, при виде добрых дел; осклабляется, хохочет и хлопочет в ладоши довольный дьявол при виде послушания его злым наветам» [18, 27]. Д. С. Мережковский называл смех главным свойством дьявола наряду с ложью [19, 399]. Д. С. Лихачёвым отмечен тот факт, что в древнерусской религиозной культуре «смех сделан устойчивой приметой беса» [17, 123]. Но и в западноевропейской средневековой культуре можно встретить примеры, когда изображаемая фигура ясно выражает «идею нечеловеческой, именно
сатанинской гордыни, высокомерного презрения к миру», но при этом иногда «фигура только намечена, дьявольских атрибутов нет, и тогда трудно решить, дьявол это или шут» [17, 90].
М. Мильнер на вопрос, почему изображение дьявола часто связано с комическими интонациями, предлагает такой вариант ответа: «тема дьявола связана с отказом от всяческих табу, с выворачиванием мифа наизнанку, т. е. функция дьявола близка к функции шута» [21, 32—33]. Фигуры комических демонов и демонических буффонов населяют страницы средневековых манускриптов и стены готических соборов. Известно, что в Евангелии Христос не смеётся: «Плакал Христос, и не видели Его смеющимся» [24, т. 2, с. 193]. Христу свойственен не смех, а скорее улыбка, снисходительно-сочувствующая, улыбка-прощение, улыбка — знак Его понимания и величия,
знак несоизмеримости всемогущества милосердного Бога и слабости и заблуждения человека. Плач, скорбь больше отвечают молитвенному состоянию души, чем радость и смех. По замечанию С. С. Аверинцева, «сокрушение сердечное», «сладостный плач» так же характерны для психологии христианства3, как ритуальный смех или ритуальный вой — для психологии язычества, а отрешённая улыбка бодхисатв — для психологии буддизма» [1, 200].
Об этом же свидетельствуют поучения христианских богословов относительно смеха и радости, в которых можно встретить неоднократные ссылки на авторитет Священного писания. Например, в Екклезиасте: «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше» (Еккл 7, 3); «Сердце мудрых в доме плача, а сердце безумных в доме веселия» (Еккл 7, 4); «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни безумных» (Еккл 7, 5); «Потому что смех безумных то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это — суета!» (Еккл 7, 6). Св. Иоанн Златоуст напоминает:«... блаженны плачущие, а не смеющиеся»
[24, т. 2, с. 193].
Преп. Иоанн Лествичник свидетельствует о том же: «Смиренномудрию содействует плач, противодействует смех» [24, т. 2, с. 239]. В Житии преподобного Сергия Радонежского говорится о нём как о «великом печальнике» [24, т. 1, с. 11]. На первом месте среди мытарств, ожидающих души грешников, — наказание за «сквернословие и смехотворства». Первые христианские богословы особенно настойчиво утверждали благочестивое воздействие на душу печали, смирения, страха и, наоборот, сатанинскую природу смеха, веселья, радости, проявляющихся в безбожном ликовании и бездумном развлечении. Подобное отношение официального христианства к смеху в целом
сохранялось и на протяжении последующих веков. Неприемлема печаль безнадёжности и отчаяния, но печаль просветлённая и одухотворённая ведёт к благодати Божией. В житии преподобного Серафима Саровского говорится о печали, скуке, унынии, малодушии как об искушениях, которым дьявол подвергал подвижника [24, т. 1, с. 54]. Игнатий Брянчанинов и Нил Сорский среди восьми нечистых страстей и помыслов называют печаль и уныние, происходящие от безысходности, от неверия человека в Божью благодать и свои собственные духовные силы [24, т. 1, с. 155]. В Книге Притчей Соломоновых сказано: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает
печаль» (Притч 14, 13), но здесь же говорится о том, что даёт человеку радость: «Радость человеку — благотворительность его...» (Притч 19, 22); «Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло» (Притч 21, 15); «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир» (Притч 15, 15). Подлинная радость — это то, что отнюдь не чуждо праведнику, а, наоборот, должно ему сопутствовать в настоящей и, самое главное, в будущей жизни.
Неприятие смеха, а значит и речи, устной и письменной, рассчитанной на смеховую реакцию, на развлечение, во многом объясняется особым, почтительным, часто трепетным и благоговейным, даже сакральным отношением к слову в христианстве. Древними иноческими уставами преп. Пахомия Великого, св. Василия Великого, преп. Иоанна Кассиана, преп. Венедикта предусматривалось, что «не только смеяться, но и говорить... запрещалось» [24, т. 2, с. 115]. От духовных усилий человека отвлекает среди прочего слушание «песен, сложенных для утех», или разговоры «людей шутливых и смехотворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы»
и нарушает столь полезное для иноков уединённое безмолвие [24, т. 2, с. 123]. Епископ Феофан Затворник учит: «Празднословия, шуток, смеха не позволяйте. Надо связать язык. Ибо это колесо, которое большею частью вращается адскими парами» [т. 2, с. 262]. Епископ Игнатий Брянчанинов относит «празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, песни, хохот» к грехам словесным4, за которые душу ожидают мытарства [24, т. 1, с. 97]. «...Насмешки... суть злейшие враги молитвы» [24, т. 1, с. 101], а «плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности...
человека... Плач есть та единственная жертва, которую Бог принимает от падшего человеческого духа...» [24, т. 1, с. 105]. Молитва же, религиозная вера дают человеку духовные силы противостоять соблазну: «Уста и язык, внимательно совершающие молитву, стяжают воздержание от празднословия, смеха, шуток, непристойных песен, недобрых слов» [24, т. 2, с. 211]. Согласно этой же богословской тенденции склонность к «смехотворству» сопровождает «блудную страсть» или даже вызывает её. Раскрепощённые уста ведут к раскрепощению тела, к впадению в грех. Св. Исаак Сирианин уверен: «Смехотворство и вольность в обращении — дело блудного беса»
[24, т. 2, с. 73]. По словам преп. Исайи Отшельника: «Множится блудная страсть... смехотворным празднословием» [24, т. 2, с. 253]. Св. Василий Великий противопоставляет вечное и настоящее, видит в первом прохладу для плоти, «а там её порабощение. Здесь пьянство, а там пост. Здесь смех, пляска, блуд, а там слёзы, молитвы, девство... Душевную радость изъявляет светлая с приличием улыбка, но смеяться громко, всем телом приходя в сотрясение, свойственно человеку необузданному» [24, т. 2, с. 57]. Преп. Варсануфий и Иоанн подтверждают эту мысль: «Где смех, там дерзость и блуд»
[24, т. 2, с. 88]; «И понять нельзя, каким образом бывает,
что человек находит утеху и веселие в песнях, плясках, в шутках и смехе, в играх и забавах, в борьбе и кулачных боях» [24, т. 2, с. 100]. В этом же смысловом ряду находится склонность к народным игрищам, забавам, шутовству, к различного рода театрализованным представлениям. «...Вводит в обман дьявол, всякими хитростями отвращая нас от Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями», — говорится в «Повести временных лет» [13, 87], а «Изборник» XIII в. предупреждает истинного христианина, чтобы тот сидел дома, «егда играют русалия ли скоморохи» [15, 78]. Рыбаков отмечает, что средневековые церковники «резко и упорно протестовали
против древних игрищ и русалий, проводимых в дни важнейших христианских праздников» [23, 677]. Преследовала церковь и языческие игрища ряженых. Столь негативное отношение христианской церкви к языческим культовым действиям и их мифологическим персонажам как одному из ярких проявлений дохристианских и внехристианских религиозных представлений способствовало вере в то, что они могут нести некий вред людям, предвещать несчастье или быть его непосредственной причиной. Вообще христианству свойственно категорическое осуждение участников ритуальных обрядовых танцев, особенно женщин. Не случайно главная фигура русалий, «танцующая девушка,
размахивающая своими рукавами-крыльями, подражая русалке-виле, оросительнице полей», рассматривается как «любовница диавола и невеста Сатаны» [23, 736]. Представление о тесной связи дьявола с подобного рода развлечениями наблюдается и в западной традиции. В средневековом мировосприятии «скоморохи, шуты, купцы модных товаров» — всё это его подручные, слуги. «Человек, вводящий в свой дом скоморохов и фокусников, — говорит в одном из своих писем Алкуин (726—804), — не подозревает, какая громадная ватага нечистых духов следует за ними» [2, 153].
Церковь наделяла дьявола теми нравственно-негативными чертами характера и поведения, которые осуждала в человеке, считая их проявлением именно дьявольского наваждения, но образ чёрта, дьявола как персонажа народной мифологии определяется прежде всего связью со стихией карнавала, игры, шутовства. Так, одна из характернейших черт дьявола в самых разных его обликах — необычайная способность и склонность ко всякого рода превращениям и метаморфозам. Убеждение в этой способности в общем-то находится в рамках сформировавшейся ещё в дохристианскую эпоху мифологемы. Известно, что согласно народным поверьям ведьма может превращаться
в различных животных и даже в предметы. В восточнославянской демонологии это преимущественно образы «кошки, котыка, собаки, сучки, коня, волка, свиньи, лягушки» [27, 558]. Наиболее часто чёрт превращается «в баранчика, овечку, козлёночка, красивую женщину, богача, паныча и, наконец, в существо с козлиной бородой и рогами — образ, напоминающий несколько Пана» [27, 557—558]. Как правило, дьявол в народных рассказах является людям в образе того или иного животного, или сочетает в себе черты разных животных, иногда его сопровождают животные. Бесконечно разнообразны формы, которые может принимать нечистая сила. В образе же человека
«он бывал по большей части угрюм, казался сердитым и суровым, но иногда развеселялся и, придя в дух, шутил с ведьмами, играл на музыкальных инструментах и пел песни» [2, 239].
Смешливость народного чёрта — его характерная черта. Лесовика, которого В. М. Гнатюк рассматривает как одну из ипостасей чёрта, «можна побачити вночі перед Іваном Купалом; він сидить тоді на дереві, кричить i хохочеться» [27, 391]. Про потопельников (утопленников — А. Г.) Гнатюк рассказывает: «Потопельники — це тi небіжчики (покойники — А. Г.), що втопилися вмисно або припадково (специально или случайно — А. Г.)... коли потопельник побачить чоловіка, зараз регочеться» [27, 401]. Другой рассказ свидетельствует о том, что смех не чужд и русалкам: «один парубок купався перед Клечальною неділею (накануне
воскресенья перед Троицей — А. Г.), коли нараз побачив при другім бepeзi (на другом берегу — А. Г.) у воді незвичайно гарну голу дівку, що сміялася та плескала в ладоні. Догадавшись, що се певно русалка, вискочив із води і побіг додому, полишивши навіть одяг на березі» [27, 401]. В праздник Ивана Купалы «ведьмы, черти, вовкулаки, нетопыри, филины, домовые, мертвецы, лешие, русалки — всё это общество соберётся в лес с хохотом, криками, завываниями» [27, 61]. Подобное происходит и во время других праздников: так, в канун Духова дня русалки «бегают во ржи, хлопают в ладоши, хохочут»
[27, 115]. «Від Клечальної неділі
русалки вичужують у лісах та сміються, аж хвиля по лісі розходиться» [9, 160]. «Многие из наших малороссиян, купаясь под “лотоками” мельницы, видали как русалки, сидя на вертящемся мельничном колесе, чесали себе волосы, с хохотом кидались с колёс в воду, шутя вертелись с ним, и ныряли под мельницу с криком — куку!» [27, 115]. В народной мифологии «русалки представляются смеющимися, хлопающими в ладоши детьми, кричащими: «Гуп! а де вы?», а также поющими [27, 414]. В приведённом С. В. Максимовым рассказе беснование нечистой силы сопровождают хохот, свист, топанье, пляски, вопли, угрозы
[18, 22]. По словам М. А. Орлова, домового-банника
«иногда видят, а чаще слышат его голос — хохот, вой, свист» [2, 502]. Другой представитель нечистой силы — леший — «редко является людям в вещественном образе, больше пугает только своим свистом и хохотом» [2, 505]. Иногда леший, превращаясь сам в путника или принимая «внешность кого-нибудь из знакомых одурачиваемого им человека, заводит с ним разговор и отбивает в сторону от дороги... вдруг незнакомец внезапно исчезает, а простофиля-мужик оказывается увязшим в каком-нибудь болоте. И только по дьявольскому свисту и хохоту, который раздаётся в это время, мужик заключает, что стал жертвою проделки лешего»
[2, 507]. Водяной также
не лишён чувства юмора, хотя и весьма своеобразного: «Иногда водяной строит шутки, чтобы испугать людей и позабавиться их страхом. Видит, например, рыбак, что по воде плывёт тело утопленника; рыбак забирает его к себе в лодку5, но утопленник мгновенно оживает, вскакивает, разражается дьявольским хохотом и с размаху кидается в воду» [2, 512]. Народному воображению чёрт представляется скорее комическим, чем грозным существом, «в большинстве рассказов чёрт изображается глупцом» [26, 419], простаком, которого достаточно легко обмануть. Имена народных чертей будничные,
уничижительные, смехотворные, а иногда даже ласкательные. Интересно, что в словаре Даля в ряду синонимов к слову «бес» помещены слова «игрец, шут» [10].
Во многом схожим является восприятие дьявола как персонажа народной культуры в западноевропейской традиции. Смешной и фамильярный народный чёрт «совершенно чужд унылости, любит посмеяться сам и посмешить других» [2, 288], о чём свидетельствуют многочисленные примеры его шутливых проделок. Карнавализованная природа подобных персонажей подтверждается опять-таки их необыкновенной способностью к превращениям и перевоплощениям, не только парадоксальностью поведения, но и гротескностью внешнего облика. Так, в одной из известных историй XVI в., описываемых М. А. Орловым, семь дьяволов, овладевших игуменьей монастыря Анной Дезанж,
соединяют в своём облике самым причудливым образом части тела человека и самых разных животных. Так, Асмодей «являлся в виде голого человека с тремя головами: человеческою посредине, бараньею слева и бычачьею справа; на человеческой голове у него была корона; ноги у него были утиные или гусиные... Он являлся верхом на каком-то чудовище, вроде медведя, но с гривою и с очень длинным, толстым хвостом, как у крокодила» [2, 704]. Столь же несообразен внешний облик Амона, Бегемота и других бесов, о которых рассказывается в этой истории. Это типичные маски средневекового бестиария, опосредованно символизирующие различные человеческие
пороки и прежде всего похоть, невоздержанность. В символике образа обезьяны к нравственной развращённости добавляется столь же отвратительная неуёмная склонность к подражанию, кривлянию, не случайно дьявола называют обезьяной Бога. Разгул, экстаз, оргиастические состояния, которыми сопровождались часто как народные карнавально-театрализованные действа, так и интеллектуально-изощрённые религиозно-мистические спектакли, — это часто не что иное, как откровенное пародирование христианского обряда. Сатанинский обряд — это христианский ритуал навыворот, своеобразная пародия на христианское богослужение. Шабаш конца средних веков -—
это последняя возможность дать человеку шанс ответить на постоянную потребность в «моментах чрезмерности и слияния существ», предельных состояниях, которым свойственны смех и слёзы» [3, 54]. Поэтому «наши трагедии, наши комедии — продолжение древних обрядов» [3, 53]. В жертвоприношении человек вплотную подходит к смерти и умирает, оставляя «нам сию последнюю весть, — в общем-то чёрный смех» [3, 56]. Именно смех Ж. Батай рассматривает как иллюзию временного преодоления смерти.
Так же как «чёрная месса» является своеобразной пародией на христианский обряд, так и сам дьявол, его помощники и слуги, их внешность, поведение часто представляют собой некий мир навыворот, кривое зеркало христианской теологии, по отношению к которому применимо предложенное в другой связи В. Г. Кузнецовым понятие «негативной карнавализации» [16].
Вместе с тем дьявол как персонаж европейской книжной культуры, и прежде всего романтизма, в отличие от народного чёрта, не только и не столько комичен, сколько страшен, являясь при этом чаще не объектом юмора и насмешки, а субъектом смеха. Но смех этот особый, «сатанинский». В христианской мифологии чёрт — это собственно дьявол, антихрист как противник Бога, то есть персонаж, рождённый интеллектуальным, рассудочным образом, но в его облике присутствуют различные языческие элементы, роднящие его с аналогичными персонажами дохристианских верований (Пан, сатир). И в смехе его сочетаются карнавальная, шутовская стихия, с одной
стороны, и интеллектуально-сатирическое начало, с другой.
По словам М. М. Бахтина, в фольклорном образе чёрта «нет ничего страшного и чуждого» [4, 48], чёрт как персонаж народных мистерий и дьяблерий — это «амбивалентный образ, похожий в этом отношении на дурака и шута» [4, 290]. Чёрт — равноправный участник карнавала. В романтизме же он внеположен всем остальным. По замечанию М. Мильнера6, в народной культуре образ дьявола амбивалентен. В романтизме же «возрождающая, обновляющая функция, которой обладал шут в смеховой культуре Возрождения, оказалась практически утерянной. Дьявол отныне — разрушитель по преимуществу (таков
прежде всего Мефистофель Гёте)» [21, 33]. И хотя поступки его в конечном счёте иногда приводят к благим последствиям или освящены неким ореолом благородства и возвышенности, сам дьявол, как правило, ясно осознает свою безусловно злую природу, предназначенность к совершению зла, невозможность изменить свою судьбу — и не испытывает никаких иллюзий по этому поводу. Он лишь ещё более ожесточается в неприятии людей и Бога [21, 34].
М. М. Бахтин также указывал на то, что в романтическом гротеске «чёрт приобретает характер чего-то страшного, меланхолического, трагического, инфернальный смех становится мрачным, злорадным смехом» [4, 48]. Но важно то, что, утрачивая облик шуточного персонажа, дьявол в культуре романтизма сам становится субъектом смеха, насмешки.
Уже в эпоху Возрождения и Реформации прозвучали достаточно острые полемические выступления в адрес католической церкви и в целом христианской догматики. Новое время — это эпоха в целом секуляризованной культуры, ориентированной в первую очередь на познавательные возможности разума, а не вдохновение веры. Тем не менее в европейской культуре XVI—XVIII вв. абсолютной секуляризации не произошло, состоялся скорее поиск истины в споре, не опровергающий основы христианского вероучения. Даже Эразм Роттердамский в своём философско-богословском произведении «Оружие христианского воина» (1502), несмотря на спор с христианским богословием
по многим вопросам христианской веры, говорит, что смех, направленный на наслаждение и развлечение, — это настоящее безумие... сладкий яд, соблазнительная погибель. Истинное и единственное наслаждение — радость чистой совести... Ты ошибаешься, если не веришь, что благочестивым людям собственные слёзы гораздо приятнее, чем нечестивцам собственный смех, хохот и шутки...» [22, 170]. В поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667) архангел Михаил, открывая согрешившему Адаму грядущие события, в числе прочих наставлений говорит следующее: «...умеряй веселье — страхом набожным, слезой печали благочестной...»
[20, 332]. Таким образом,
хотя категория радости отнюдь не является чуждой христианству, сформировавшему основы европейской культуры, эта радость исключает смех как хохот, насмешку, развлечение, игру. Последние становятся атрибутами дьявола. Это общая установка христианского богословия, в первую очередь средневекового, и соотносимой с ним в той или иной степени (пусть даже полемически) философско-литературной традиции.
По мнению В. Г. Кузнецова, с середины XVII в. происходит смена типа европейской культуры, сопровождаемая уменьшением роли страха. Правда, Кузнецов считает специфическим явлением русской культуры этого времени «наложение противоположных установок (по отношению к смеху и страху) друг на друга по законам гротеска» [16, 26]. Представляется, что роль темы страха в западноевропейской культуре также осталась существенной, и подготовившая во многом романтическую эпоху готическая литература сыграла в этом, возможно, решающую роль. Характер смеха также изменился, «смех начинает терять амбивалентность»
[16, 26]. Если в русской культуре,
по словам Кузнецова, «преобладают глумливый смех палача и бичующий смех юродивого», то, по нашему мнению, в европейской культуре XIX—XX вв. это саркастический смех и шутовской хоровод.
Готическая проза и продолжавшая её традиции романтическая литература интересны, на наш взгляд, тем, что именно здесь была сформирована мифологема страха, заявлена сама эта тема в европейской литературе как сознательная установка в направлении создания определённого эстетического эффекта, при этом тот, кто страшит, чаще всего сам смеётся. Абсолютная персонификация дьявольских сил сочетается в готическом романе с некоторой художественной реабилитацией зла, вызванной эстетическими, идеологическими или иными мотивами. Тем не менее, несмотря на критическое отношение ко многим явлениям в идеологии и практике католической церкви
в «романе ужасов», носителями ироничного, насмешливого отношения к миру при этом являются именно демонические персонажи, играющие роль злодейскую, часто совершающие преступления, страшные по своей жестокости и цинизму.
Предромантической литературой, и именно «готическим романом» было подготовлено создание образа демонического героя и страдающего злодея в романтизме, образа, в котором происходит перенос зла извне «вовнутрь». Демонический герой несёт в себе «духовное бремя абсолютной свободы и одиночества» [24, 17]. В значительной степени это также и бремя знания, позволяющее занять некую надмирную и надчеловеческую позицию...
2002
1. Аверинцев С. С. Софія-Логос. — К.: Дух i літера, 1999.
2. Амфитеатров А. В. Дьявол. Орлов М. Н. История сношений человека с дьяволом. — М.: ИЦ МП «ВНК», 1992.
3. Батай Ж. Литература и зло. — М.: Издательство МГУ, 1994.
4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1965.
5. Бондопаддхай Т. Люди и боги. Кхандекар В. С. Король Яяти. — М.: Художественная литература, 1991.
6. Бородатова А. А. Боги преисподней у древних майя. // Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1985. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1986. — С. 197—214.
7. Бхагавадгита. Книга о Бхишме (отдел «Бхагавадгита», кн. VI, гл. 13—24). Серия «Философские тексты Махабхараты». — СПб.: «A-cad», 1994.
8. Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. — СПб. — 1881.
9. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Том II. — Мюнхен: Українське видавництво, 1966.
10. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том IV. — М.: Терра, 1995.
11. Дао: гармония мира. — М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2000.
12. Дружинин А. В. «Лес, или Сен-Клерское аббатство», роман г-жи Анны Радклиф // Собр. соч. А. В. Дружинина. — СПб.: Типография императорской Академии Наук, 1865. — С. 120—172.
13. Златоструй. Древняя Русь. X—XIII вв. — М.: Молодая гвардия, 1991.
14. Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. — К.: «София» Ltd., 1992.
15. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. — К.: Наукова думка, 1990.
16. Кузнецов В. Г., Нерушева Л. Г. Вселенная Россия: истины и мнимости. Винница: ЧП Усатюк, 2000.
17. Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. — Л.: Наука, 1984.
18. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб.: ТОО «ПОЛИСЕТ», 1994.
19. Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. — М.: Советский писатель, 1991.
20. Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец. — М.: Художественная литература, 1976 (Библиотека Всемирной Литературы).
21. Мильчина В. А. Исследование эстетики и поэтики романтизма. // РЖ «Общественные науки за рубежом». Серия 7. Литературоведение, 79.05.009-015. — С. 31—40.
22. Роттердамский Э. Философские произведения. — М.: Наука, 1986.
23. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. — М.: Наука, 1988.
24. Сборник святоотеческих изречений и поучений. В 2-х т. — Мюнхен, 1991.
25. Судзуки Д. Основы Дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика дзэн. — Бишкек: МП «Одиссей», Главная реакция Кыргызской энциклопедии, 1993.
26. Тамарченко Н. Д. Достоевский, Мэтьюрин, Гюго. [К вопросу о жанровых истоках и связях «Преступления и наказания» Достоевского] // Проблемы жанра в зарубежной литературе (Республиканский сборник). — Свердловский государственный педагогический институт. Сборник научных трудов 319. — Свердловск, 1979. — С. 15—27.
27. Українці. Народні вірування, повір’я, демонологія. — К.: Либідь, 1991.
28. Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь). — СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1994.
|
|
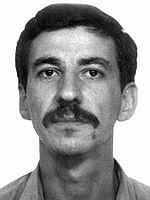
Александр Вячеславович Голозубов
родился в 1971 в Харькове. В 1993 окончил филологический факультет Харьковского университета. Кандидат философских наук. Доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры Харьковского Национального технического университета. |
|